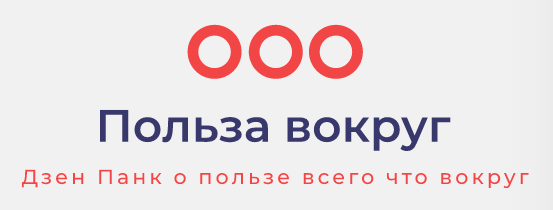Этика долга и этика пользы

Этике добродетели традиционно противопоставлялась этика долга, в чистом виде выраженная в философии Канта. Мы уже несколько раз указывали ее основные черты: внутренне она сводится к убеждению о необходимости поступать только ради морального закона, внешне – в нормах, преимущественно выраженных в запретах. Нормы – более понятное явление морального сознания, чем добродетели. Чрезвычайно трудно сказать, обладает ли человек нравственным качеством или нет, а нормы – это очевидные предписания, обязывающие нас делать или не делать конкретные вещи. Но, самое главное, субъективное понимание добродетелей может вести к самым разным, порой безнравственным поступкам, в то время как норма их немедленно исключает. Если сказано: “не укради”, то для исполнения этой заповеди не требуется воспитывать никаких особых добродетелей.
Этика долга разбивает традиционное для Античности представление о единстве моральности и счастья. Как мы помним, по мнению Канта, мораль – это необходимое, но недостаточное условие для блаженства. Кроме того, здесь есть героические мотивы: долг не желает мириться с обстоятельствами, требует волевого усилия для осуществления нравственных ценностей и самопреодоления, не желает ничего для себя взамен совершенному поступку. Для долга нравственные принципы находятся выше повседневного жизненного опыта, какие бы соблазны и блага тот не обещал. Но при этом обсуждаемая теоретическая модель также не свободна от критических замечаний, которых можно указать значительно больше, чем в случае с этикой добродетели.
- 1. В этике долга не решен вопрос об авторитете, стоящем за нормами. Действительно, от имени кого они вменяются в обязанность? Когда Шопенгауэр критиковал Канта, он обратил внимание на то, что свою императивность мораль берет от религиозных заповедей. Но как быть тем, кто не верит в Бога? Сам Кант основал моральный закон на индивидуальном разуме, но насколько это надежная основа для морали? Как показывает практика, нормы, не исходящие от надежного авторитета, игнорируются.
- 2. Второй момент касается как раз надситуационности моральных требований. Получается, что нормативное сознание не желает вникать в обстоятельства жизни людей, которые бывают очень сложными. Складывается впечатление, что нормативность касается нс живых людей, а гипотетических субъектов. Конечно, никто от имени морали не может призывать сознательно нарушать нормы, но для нравственной позиции вполне допустимо думать, в какой мере их возможно исполнить.
- 3. Следующий момент связан с недооценкой этикой долга внутреннего мира личности. Она нацелена на внешнее исполнение норм, но можно ли сказать, что этого хватит для моральности? Человек может исполнять их чисто механически, принимая за долг обычную привычку. Очевидно, что долгу требуется некая внутренняя основа, которую Кант назвал доброй волей, но не придал этому понятию положительного содержания. Тем не менее возможно представить конструкцию, где долг получал бы поддержку от нравственных чувств, приобретая тем самым дополнительную мотивацию.
- 4. Далее можно задать вопрос о самих нормах, исполнение которых требуется долгом. Ведь их же существует огромное количество. Достаточно ли будет руководствоваться самыми известными запретами – “не убивай”, “не укради”, “не лги”, “не прелюбодействуй” – или нужно еще что-то, например соблюдение каких-нибудь положительных требований? Опыты нормативной этики нередко вынуждены были сочинять целые тома норм, заповедей, требований, правил и максим, но никому еще не удалось построить, во- первых, исчерпывающей, а во-вторых, непротиворечивой системы. Именно проблема непротиворечивости – самая болезненная для этики долга. Очень часто случается так, что одна нравственная норма вступает в конфликт с другой, и тогда у человека, не имеющего других нравственных ориентиров кроме добровольно воспринятых требований, возникает растерянность.
- 5. Наконец, последнее замечание касается отказа этики долга от идеальных представлений о совершенной жизни. По сути, в ней речь идет только об идеальном поступке, но не о том, чего добивается человек, совершая его. Допустим, мы будем строго выполнять все предписанные нормы; означает ли это, что наша жизнь значительно улучшится? Один из ведущих сюжетов мировой литературы как раз свидетельствует о том, как житейская порядочность делает жизнь человека невыносимой и в итоге толкает на преступление. Отсюда становится ясной необходимость дополнить долг положительным содержанием, помогающим человеку обрести подлинную жизнь.
Источник
Проведенный нами ранее анализ позволяет выявить следующие направления, по которым философы пытались объяснить то, как происходит объединение индивидуальной воли с общественной: заданное со стороны божественных форм стремление к совершенству в выполнении отведенной тебе социальной роли (Аристотель); подчинение судьбе, выполнение своего предназначения (стоицизм); выполнение божественных заповедей (религиозная этика); выражение собственного интереса при оправданном учете интереса другого (теории разумного эгоизма); нравственное чувство симпатии к тем, кто справедлив, и вызванное эмоциональным резонансом желание быть справедливым самому (Юм); сострадание, обусловленное тем, что человек мысленно ставит себя на место другого (Шопенгауэр, Кропоткин); нравственное чувство, основанное на моральных интуициях, на подкрепленном эстетическим восприятием мира стремлении к гармонии целого (Хатчесон, Шефтсбери); воспитуемые нравственные чувства (Вестермарк, Шарп); пантеистическое объединение деятельности героя с божественным замыслом (Джордано Бруно); следование критерию чистого разума, заключающемуся в правиле универсализации (Кант); самореализация на основе нравственных ценностей (персонализм, марксизм, теория риска Гюйо). Как видим, подобные объяснения весьма многообразны.
При их сравнении обращает на себя внимание то, что в различных подходах решаются как бы две задачи: объяснение позитивного, направленного на достижение общественно значимого
(в смысле решения некоторых практических задач развития общества) нравственного результата, и объяснение необходимости нравственных ограничений, не позволяющих человеку поступать дурно в смысле нанесения обиды другим людям, ущемления их интересов, унижения их достоинства. Это в ряде случаев предполагает и активное поведение, направленное на поддержку слабого, выражающееся в благотворительности. Однако в рамках этических теорий, ориентированных на решение второй задачи, больше ставится вопрос о частичном преодолении социальных противоречий, достижении возможной при данных обстоятельствах гармонии, чем о задачах радикального преобразования общества, создания новых машин, новых технологий. Последнее, наоборот, даже часто осуждалось как искажающее нравственность или несовместимое с ней. Так, например, оценивает развитие техники Л. Н. Толстой в произведении «Восстановление ада».
Какая же традиция лежит в основе столь разных подходов к морали и как она представлена при ее обосновании? Для ответа на данный вопрос, с нашей точки зрения, следует провести различие между этикой долга и этикой добродетелей.
Этика долга предполагает одинаковое отношение к разным людям безотносительно их достижений в практической жизни. Это этика строгих ограничений и универсальной любви. Одним из способов ее обоснования является как раз универсализм. Другой тип этики представляет этика добродетелей. В ней допускается различное нравственное отношение к разным людям, потому что их достоинство зависит в этом типе этики от конкретных черт характера людей и их практических достижений. Моральные качества соотносятся здесь с различными социальными способностями и выступают как очень дифференцированные.
Раскрывая понятие добродетели так, как оно было представлено в традиционной этике, например, Макинтаир говорит о том, что этика добродетелей, собственно, объединяла то, что может быть названо гипотетическими и категорическими императивами. Гипотетические императивы как некие нормативные предписания, которые показывают совершенный путь к достижению цели, были необходимы для нее, так как само понятие добродетели строится на основе принципа совершенства человека во всем, в каждом его действии.
Сравнивая различные принципы описания человеческого бытия, П. Рикер предлагает «в дополнение к теологическому этическому измерению ввести также измерение деонтологиче- ское. Если первое открывает дорогу этике добродетелей, то второе — этике долга»[1].
Интерес к этой проблеме не случаен. Очевидно, что в различных способах построения нравственных систем фактически фиксируются принципиально различные типы нравственной мотивации. В одной из них нравственные характеристики берутся отвлеченно от индивидуальных качеств, имеющих значение в конкретных видах общественного производства. Они поэтому прекрасно сочетаются с требованиями, которые могут быть сформулированы абстрактным разумом и применены к субъекту, который, также пытаясь быть разумным, стремится взять верх над своими страстями. Эти требования и получают выражение в этике долга. Но в другой системе мотивации, там, где речь идет о качестве выполнения конкретных видов общественной деятельности, о достижении общественно значимых целей, нравственные характеристики просто не могут быть независимы от способностей субъекта, от его предрасположенности к выполнению определенного рода работы, от эмоций, сопровождающих достижения и неудачи. Это было не замечено многими философами, стремящимися к абстракциям, но выражено поэтами. Так, в поэме Гомера «Илиада» мы видим, что герои имеют различные градации и характеристики мужества. Грузный воин Аякс проявляет мужество в обороне, а быстрый Диомед — в атаке. Это различие зависит не только от их умения владеть оружием, но и от биологической организации.
Интересно, что связь между моральными качествами характера и конкретными социальными способностями может быть найдена в этимологии английского слова добродетель (virtue). Выражение «by virtue», что в дословном переводе означало бы «посредством добродетели», в современном английском языке употребляется в значении «способа действия». Первичное значение выражения «добродетельный человек» означало «сильный, могущественный человек», т. е. человек, обладающий значимыми для данной культуры способностями, конкретными умениями. Нравственная характеристика явно не отделена здесь от социального качества.
Определение моральных характеристик человека в связи с его общественно значимыми достижениями отчетливо прослеживается в римской мифологии, где доблесть становится основным критерием определения меры достоинства личности. Греческая философия в итоге своего развития пришла к мысли о том, что люди и боги не вмешиваются в дела друг друга (Эпикур), а также к идее разделения морали как сферы проявления мотивов и практики, как сферы проявления результатов, не имеющих к добродетели прямого отношения (стоицизм). В римской же мифологии человек не только продолжает дело богов, но и сам может превратиться в бога в результате заслуг перед обществом и выполнения обязательств перед богами и мертвыми, подобно тому, как сын семейства в конце концов может превратиться в его главу.
Кант, заложивший в свою концепцию только теоретические посылки этики долга, не учитывает, что моральные характеристики, связанные с конкретными социальными способностями, не могут быть совершенно отделены от эгоистических желаний. В результате возникает противоречие, выражающееся в том, что абстрактная нравственная воля противостоит конкретным, эмоционально насыщенным проявлениям субъективной жизни и в итоге лишается реальных оснований для своей реализации.
За кантовскими идеями, несомненно, стоит стремление к выражению родового единства всего человечества. Но кажется, что на современном этапе совершенно неправомерно понимать мораль только в родовом, объединяющем людей едиными отношениями смысле. Не в меньшей мере она несет в себе индивидуализирующее, связанное с особыми предпочтениями в образе жизни и особыми социальными качествами начало.
Однако для того, чтобы показать, как мораль может влиять на развитие индивидуальных качеств личности, как она может способствовать развитию социально значимых способностей, необходимо использовать иную, по сравнению с Кантом и вообще, по сравнению со всей рационалистической традицией Нового времени, методологию. Необходимо не разделять нравственный мотив и иные прагматические мотивы поведения человека, а, наоборот, показать, как они могут быть объединены.
Такую методологию, можно, на наш взгляд, найти в принципе дополнительности. В противоположность гегелевской диалектике этот принцип не предполагает превращения взаимодействующих сторон (дополняющих компонент) в борющиеся противоположности. Это означает, что ни одна из них не стремится занять доминирующую позицию и выступить в качестве системообразующего принципа в последовательно изменяющейся, но, в соответствии с гегелевской диалектикой, обязательно проходящей три общие стадии развития и приходящей к полному совершенству системе.
Принцип дополнительности допускает возможность объединения разных сущностей под одной природой (что гегелевская диалектика запрещала), а следовательно допускает и то, что данные сущности могут взаимообогащать друг друга. Применительно к исследованию человеческого поведения это означает, что одни мотивы не просто действуют наряду с другими, а способны усиливать друг друга.
Учитывая подобный процесс объединения мотивов, можно попробовать дать ответ на вопрос, почему же человек должен быть нравственным не для общества, а для самого себя. Фактически, такой ответ будет означать, что мы перешли от сущего к должному, от решения вопроса о том, что есть человек, как от факта, отраженного в теории, к вопросу о том, почему он должен быть моральным, т. е. преодолели запрет выведения морали из разума, наложенный Юмом, а также запрет выведения добра из чего-то внешнего, отмеченный Кантом и Муром.
Можно ли свести мораль лишь к ограничениям, следующим из правила универсализации, к поведению на основе разума, освобожденного от мешающих трезвому рассуждению эмоций? Безусловно, нет. Со времен Аристотеля известно, что без эмоций нет нравственного действия. Но если в этике долга проявляются строго определенные эмоции сострадания, любви, то в этике добродетелей реализация нравственных качеств сопровождается многочисленными положительными эмоциями внеморального характера. Это происходит потому, что здесь имеет место объединение нравственных и иных, прагматических мотивов бытия. Причем ориентация поведения на нравственные ценности усиливает эмоциональное самоощущение в процессе удовлетворения не каких-то особых, «моральных» (их, с нашей точки зрения, не существует), а всех высших социальных потребностей личности. Например, радость творчества в общественно значимой деятельности выше радости творчества в простой игре, так как в первом случае человек видит в моральных критериях общества подтверждение действительной сложности, иногда даже уникальности решаемых им задач. Это и означает обогащение одних мотивов за счет влияния других.
В этике добродетелей добро не может быть ни исходным, ни элементарным (далее неразложимым) понятием по той простой причине, что сами нравственные характеристики строятся здесь на базе представлений о выполнении социальных функций. Они отражают качество выполнения этих функций и потому не могут быть предельным недифференцированным обобщением в духе платоновского абсолютного добра.
Как уже говорилось, попытки абсолютистского и интуитиви- стского понимания добра связаны с реальной общественной потребностью усиления нравственных мотивов поведения, направленных на интересы выживаемости рода, на защиту отечества, спасение другого человека, т. е. мотивов нравственного поведения, проявляющихся тогда, когда имеется резкое противопоставление личного и общественного интереса. Абсолютная форма добра в таком случае — не что иное, как требование отдать безусловный приоритет общественному перед личным.
Понятно, что, несмотря на все теоретические объяснения того, почему человек может пожертвовать жизнью ради других, в практическом плане это реакция подсознания, которая абсолютна хотя бы потому, что выходит за пределы контроля со стороны сознания. Но всегда ли общество будет требовать от своих членов жертвенного поведения? Думается, что создание все более совершенного правового порядка и соотносимое с этим развитие общества в сторону его гуманизации постепенно сокращают область отношений, связанных с необходимостью жертв или строгих ограничений собственных интересов. Тем самым происходит и сокращение оснований для абсолютистского подхода к морали. В развитии абсолютистской тенденции мораль как бы преодолевает сама себя, передавая свои функции гаранта равноодинакового отношения между людьми более действенному и в то же время более дифференцированному применительно к конкретным ситуациям жизни регулятору, т. е. праву.
Но это, конечно, не означает, что мораль изживает сама себя. Функции морали многообразны. В этике добродетелей происходит объединение моральных и иных, прагматических, мотивов бытия, и нравственная позиция индивида вполне может быть аргументирована здесь на основе принципа обогащения одних эмоций другими без обращения к абсолютам.
Ясно, что сохранение целостности общественного бытия, в глобальном плане — выживаемость человеческого рода, конечно, очень важная миссия. Но она не может служить единственной характеристикой морали. Последняя влияет также на целевые установки поведения людей, представляет систему ценностей, в которых отражаются конкретные задачи воспроизводства общественного бытия на данном этапе исторического развития. Так как эти ценности не очевидны для каждого отдельного субъекта, специфической формой их предъявления, так же, как и в случае прямых запретов, является должное. Но это должное раскрывается как ценное в процессе обоснования морали и реально предстает благом для индивида тогда, когда он оказывается вовлечен в деятельность по реализации данных ценностей, когда у него формируются соответствующие этой деятельности высшие социальные потребности. Процессы включения индивида в деятельность, формирования его потребностей не укладываются, конечно, в рамки простого теоретического обоснования морали. Они являются результатом воздействия последней как ценностно-нормативной системы на человека. Но это, с нашей точки зрения, совершено не означает невозможности обоснования морали. В самом практическом воздействии морали на поведение человека заключены абсолютные, отчужденные от него начала, заключающиеся в факте предъявления нормы, выработанной не этим человеком, а являющейся результатом длительной исторической практики. Однако именно через теоретическое обоснование данные, отчужденные от индивида элементы нравственной жизни могут получить разъяснение и, в конце концов, совпасть с его собственной нравственной волей.
Личная заинтересованность человека в морали, как представляется, может быть объяснена на основе четырех принципов:
- 1. Сознание справедливости и чувство симпатии к тем, кто справедлив (Юм). Отсюда возникает стремление самому быть справедливым ради приобретения симпатии со стороны других людей.
- 2. Уважение любой формы жизни, сострадание, как оно утверждается в концепции А. Швейцера. В принципе способность к состраданию, как уже говорилось, возникает благодаря модельной (гипотезотворческой) активности мозга. В поле нашего сознания, нашей гипотезотворческой активности, вообще говоря, попадают все наглядно видимые формы жизни. Но нравственные отношения, думается, непосредственно распространяются лишь на существа, обладающие психикой, т. е. на существа, способные осуществлять ориентировочную деятельность на основе идеального образа. Это устанавливает очень важный критерий, показывающий, что человек не может и не должен отказаться от себя ради того, чтобы не разрушать никакие структуры мира. Мы не имеем нравственных обязательств перед растениями, вирусами, бактериями. Но высшие животные могут рассчитывать на наше нравственное отношение. Более того, поскольку благодаря сложной ориентировочной деятельности высшие животные также обладают некоторой способностью к состраданию, мы до определенной степени находимся с ними во взаимных нравственных отношениях, особенно с теми животными, у которых способность сострадания не подавлена природной агрессивностью. Другие животные, не обладающие психикой, могут в одностороннем порядке становиться объектом наших нравственных отношений, так как в силу их сходной с нами организации нам все равно жалко их уничтожать.
- 3. Признание ценности индивидуального бытия и моральное оправдание стремления к достижению более высокого уровня развития индивидуальности. Этот критерий соотносится с признанием ценности разнообразия жизни и силой эмоциональных напряжений, отвечающих этому разнообразию. (Данная идея находит отражение в философии жизни, персонализме).
- 4. Самореализация, утверждение индивидуальности на базе активности, ориентированной на общезначимые социальные ценности. Этот критерий может быть логически выведен из второго и третьего, потому что более высокий уровень развития индивидуальности предполагает более сильные позитивные эмоции. Последние могут возникнуть только в жизненной активности, ориентированной на общезначимые ценности, потому что они показывают уникальность совершаемой личностью деятельности и определяют общие цели, которые необходимо иметь как условия для достижения счастья, связанные с преодолением препятствий на пути движения нашей воли.
Данные принципы допускают определенную степень релятивизма в понимании морали. Например, испытывая сострадание ко всем близким нам формам жизни, мы все же вынуждены использовать животные белки для развития своей индивидуальности, т. е. попросту говоря, убивать животных; мы можем оказаться вынуждены убивать и когда защищаем свою жизнь или свободу своего народа. Но это в большей степени свидетельствует не о нашем несовершенстве, а о несовершенстве общества, в котором мы живем. Создание политической организации, исключающей войны, и решение проблем питания на основе новой энергетики и технологии так, как это виделось, например, Вернадскому (переход к автотрофному человечеству, связанный с производством искусственного белка), позволят гуманизировать общественную жизнь до такой степени, что этика долга с ее универсализмом и строгими запретами на использование человека в качестве средства фактически окажется ненужной в силу конкретных политических и правовых гарантий бытия человека и всех других живых существ. В этике же добродетелей необходимость ориентации личных мотивов деятельности на нравственные ценности может быть обоснована без апелляции к абстрактным метафизическим сущностям, без иллюзорного удвоения мира, необходимого для придания нравственным мотивам статуса абсолютной значимости. Это является одним из проявлений реального гуманизма, так как снимает отчуждение, вызванное тем, что человеку навязываются внешние, непостижимые рациональным мышлением принципы поведения.
Источник