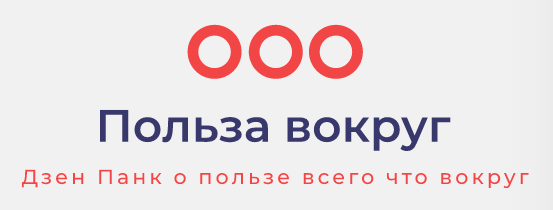Утилитаризм это учение считающее пользу
Идеи утилитаризма возникли 400 лет назад, но наиболее ясное выражение получили в работах Джереми Бентама (1748—1832). Согласно Бентаму, любая моральная деятельность является оправданной, если ведет к достижению наибольшего количества счастья для наибольшего числа людей.
Иммануил Кант (1724-1804) в критике утилитаризма указал, что личность станет средством для достижения удовольствий / выгоды / пользы. Личность не может быть средством, личность может быть только целью. Человек рассматривает себя как объект, который можно использовать для удовольствия других людей, а других людей рассматривает как объекты для удовлетворения своих собственных потребностей. Люди используют друг друга, извлекают выгоду друг из друга. Стоит ли удивляться, что в наше время на людей смотрят не как на личности, а как на вещи, которые должны быть удобными для потребления другими людьми. Утилитаризм превращает человека в вещь для потребления.
Утилитаризм происходит от лат. utilitas — польза, выгода.
В утилитаризме человек не является ценностью, ценностью является польза, которую он приносит. Не приносишь пользы, ты никому не нужен, не ценен, не важен, ты только “зря коптишь небо”. Человеческая личность – не ценность, человеческая жизнь – не ценность, любая жизнь – не ценность, жизнь – не ценность.
А ценностью является некая мифическая польза, которую как хотите, так и трактуйте. Учёные мужи написали много книг и диссертаций на тему, как правильно определять полезность.
А являются ли стихи полезными? Поэты – это полезные люди или бесполезные? Один из злободневных вопросов 19 века. Может, кто-нибудь слышал выражение “сапоги выше Пушкина” или “сапоги выше Шекспира”. Оно означает, что сапоги – вещь полезная, их можно надеть, в них можно ходить, а стишки – что с ними делать? их не наденешь, в карман не положишь, ими не насытишься. Какая польза от стихов? В конце концов поэзию пристроили к утилитаризму, нашли в ней какую-то пользу, поэтам разрешили писать стихи, а Пушкина объявили национальным достоянием.
Поэзия – высшая форма жизни.
Кому-то это покажется странным. Тогда скажите, откуда взялись выражения “проза жизни” и “поэзия жизни”?
Почему мы с тоской смотрим в прошлое? Мы видим в нём поэзию. Там, где предки видели грязь и страдания, нескончаемые войны, болезни и голод, мы увидели нечто прекрасное, не опошленное. Может быть, это наши предки там, в другом мире, обрели новое зрение, увидели свою прошедшую жизнь в другом свете, увидели скрытую красоту бытия и каким-то чудом передали своё видение нам. Почему прошлое очаровывает нас? Почему не настоящее? Почему в настоящем мы живём без вдохновения?
В основе любого мировоззрения, учения, идеологии лежит СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ. Как бы банально и избито не звучало это словосочетание, а с системы ценностей всё начинается.
Сейчас в интернете можно найти интересные видеоролики о сотворении реальностей. В основе реальности тоже лежит система ценностей. Какие ценности вы в свою реальность заложите, такую реальность и создадите.
И, говоря о ценностях, разумеется, приходится говорить и об обесценивании.
В школе я ходила в спортивную секцию бега и прыжков. Когда я первый раз поехала в центр города в спортивный клуб, увидела на верху соседнего дома лозунг огромными буквами: ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ – ЗАЛОГ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА. И мне стало нехорошо, тошно, тоскливо: “Что же мы – рабочая скотина?” Мир обрушился, и жизнь стала не в радость. Быть рабочей лошадью – не жизнь. Быть винтиком в колесе – не жизнь. Быть биороботом – не жизнь. Быть вещью для потребления – не жизнь. Там где жизнь – не ценность, и жить не захочется.
Во время крепостничества к крестьянам относились как к рабочей скотине, их продавали и меняли как вещи.
Сохранилась история времён крепостного строя. Кузнец и барин были закадычными друзьями с самого детства. Когда старый барин умер, молодой получил в наследство поместье. Однажды он играл с товарищами в карты и, проиграв все наличные деньги, поставил на кон кузнеца. Кузнеца он тоже проиграл в карты. Кузнец, узнав об этом, повесился, не смог смириться с тем, что барин никогда не видел в нём друга, а видел лишь слугу для развлечения скучающего хозяина, игрушку для детских барских забав.
Грянула Великая Октябрьская революция, уничтожила класс помещиков-эксплуататоров. Людей больше не продают как вещи, не проигрывают в карты, не секут на конюшне, но они так и остались рабочими единицами, койко-местами и человеко-часами. Свершился социальный переворот, но не идеологический, и люди по-прежнему потребляют друг друга, правда делают это несколько гуманнее.
Утилитаризм живёт и побеждает. Утилитаризм создал современное общество потребления и перепотребления. В этом обществе нет места поэзии, вдохновению и творчеству. В этом обществе скоро не останется места и человеку.
Фрагмент фильма “Кин-дза-дза”:
Автор: Евгения Вазенмиллер
Другие материалы на тему ценности человеческой личности:
Лекции отца Андрея Лоргуса и Ольги Красниковой
Мы обижаемся, потому что себя не ценим (с цитатами из работ Николая Александровича Бердяева)
Первая статья о ценностях – Самый важный социальный навык
Предыдущая статья о ценностях – В мире истинных ценностей никто не сможет нас оскорбить
Следующая статья о ценностях – Сотворение реальностей: системы ценностей и обесценивание
Источник
И. Бентам. Основатель классического утилитаризма И. (Дж.) Бентам соединил гедонистическую моральную психологию и расчеты коллективного счастья, сделав их синтез основой для выбора оптимальной структуры общественных институтов. Одобрение и неодобрение действия он связывал с его тенденцией увеличивать или уменьшать счастье тех, чей интерес затронут последствиями этого действия («той стороны, об интересе которой идет дело»). Таково содержание его «принципа полезности» или «принципа наибольшего счастья» [Бентам, 1998, с. 10; историю принципа см.: Shakleton, 2002], практическая конкретизация которого зависит от решения четырех вопросов: 1) кто должен рассматриваться как «сторона», счастье которой является предметом внимания морального деятеля; 2) что представляет собой счастье индивидов и коллективов; 3) как измерять счастье, чтобы отличить большее счастье от меньшего; и 4) что следует проверять с помощью принципа полезности: отдельные поступки или правила поведения? Каждый из них был предметом теоретической рефлексии Бентама.
Затронутой действием «стороной» может считаться человечество в целом, представленное в конкретных ситуациях кругом лиц, интересы которых затрагивает планируемое действие. Некоторые декларации принципа пользы, предложенные Бентамом, соответствуют именно этой, универсалистской трактовке принципа пользы [Бентам, 1998, с. 29]. Бентамовская критика жестокого обращения с животными свидетельствует о том, что он мог придавать принципу пользы очень широкое значение: предметом озабоченности морального деятеля является положение любых существ, способных к переживанию удовольствия и страдания [Бентам, 1998, с. 372]. Однако в трудах Бентама встречаются и такие формулировки принципа пользы, в которых под обсуждаемой «стороной» подразумевается лишь нация: «всеобщее счастье» и «всеобщий интерес» отождествляются со счастьем и интересом «всех членов государства» [Bentham, 1843, vol. 2, p. 269]. Узкое понимание круга моральных реципиентов присутствует и в рамках бентамовской критики идеи прав человека (естественных прав). Выдвинутый Бентамом тезис о невозможности существования каких бы то ни было прав до и вне политического сообщества и управляющего им правительства создает существенные затруднения для того, чтобы в утилитаристское суммирование счастья оказались включены все представители человечества [Bentham, 1843, vol. 2, p. 500; см. подробнее: Schofield, 2019, p. 59‒84]. Важный дополнительный аспект обсуждения вопроса о том, чье счастье обязан увеличивать утилитаристский деятель, задает альтернатива между всеми людьми, затронутыми его действием, и их большинством. Бентам обсуждает эту альтернативу и склоняется ко второму варианту, поскольку первый нереалистичен [Bentham, 1843, vol. 2, p. 269].
Счастье Бентам отождествляет с получением удовольствий, причем это могут быть удовольствия любого типа, без каких бы то ни было качественных разграничений [Bentham, 1843, vol. 2, p. 253‒254; см. подробнее: Vergara, 2011]. Психологию людей он считает сугубо гедонистической: «природа поставила человечество под управление двух верховных властителей, страдания и удовольствия» [Бентам, 1998, с. 9]. Это философско-психологическое представление порождает серьезное противоречие внутри бентамовского утилитаризма. Если каждый человек всегда стремится лишь к увеличению своего удовольствия и уменьшению своего страдания, то его действия определяются исключительно прогнозами в отношении его собственных будущих болезненных или приятных переживаний. Однако в этом случае никто не мог бы руководствоваться в своем поведении принципом полезности, который требует от деятеля учитывать не только свои удовольствия и страдания, но и удовольствия и страдания других людей и даже жертвовать ради их счастья своим собственным счастьем. В контексте сугубо гедонистической моральной психологии не может получить объяснения не только мотивация утилитаристского морального субъекта, который стремится к наибольшему счастью наибольшего количества людей в частной жизни, но и утилитаристского законодателя, который пытается сделать принцип полезности основанием всех социальных институтов.
Вопрос об измерении счастья Бентам решает с помощью нескольких теоретических приемов. Первый – выделение параметров оценки индивидуальных удовольствий, таких как интенсивность, продолжительность, несомненность, близость, плодовитость и чистота [Бентам, 1998, с. 41‒42]. Второй – выделение первичных удовольствий, к которым применяются эти критерии и на которые могут быть разложены более сложные эмоциональные состояния [Бентам, 1998, с. 46‒57]. Третий – разработка правил суммирования удовольствий и страданий разных людей (в числе которых тезис о равной значимости счастья любого человека (любого члена сообщества) [Bentham, 1843, vol. 4, p. 540; Bentham, 1983, p. 278; разные понимания смысла этого тезиса см.: Hart 1983, p. 99; Postema 1998; Rosen 1998]. Отношение Бентама к «расчету счастья» (felicitous calculus), складывающемуся на основе этих приемов, было двойственным. С одной стороны, он понимал всю условность сложения страданий и удовольствий, а с другой – считал его основой убедительности любой «политической аргументации» [цит. по: Halevy, 1952, p. 495].
Принцип полезности был сформулирован Бентамом как принцип одобрения или неодобрения конкретного действия. Это заставляет некоторых исследователей предполагать, что бентамовский утилитаризм является утилитаризмом действий. Однако такая интерпретация может оказаться слишком прямолинейной. Ведь основными предметами исследования Бентама были наилучшая структура институтов и оптимальное содержание законов. Этот исследовательский фокус совмещался у Бентама с убеждением, что главной не только правовой, но и моральной обязанностью индивидов является соблюдение законов. Внутри ограничений, наложенных законами, индивиды, по Бентаму, могут свободно реализовывать стремление к собственной выгоде. А это значит, что принцип пользы нигде не может применяться непосредственно как критерий оценки конкретного поступка. Моральный деятель либо подчиняется вторичному правилу (закону), либо находится в сфере, свободной от морального регулирования. Лишь законодатель руководствуется принципом полезности напрямую, но он выбирает между кодексами, а не поступками. О том, что принцип полезности в процессе принятия моральных решений уступает место более конкретным требованиям, свидетельствует и выделение Бентамом иерархизированных частных целей законодательства, достижение которых ведет к увеличению «суммы общественного счастья». Таковы безопасность, средства для жизни, равенство и изобилие [Бентам, 1867, с. 322‒336; Bentham, 1843, vol. 4, p. 269‒272]. Все это превращает утилитаризм Бентама в подобие позднейшего утилитаризма правил, в котором принцип полезности является основой для выбора наилучшего свода требований, исполнение которых избавляет деятеля от расчета суммированной полезности в конкретных ситуациях морального выбора (примеры анализа этики Бентама в контексте утилитаризма действий и утилитаризма правил см.: Postema 2019, p. 467‒462; Kelly 2003, p. 312‒316).
Джон Ст. Милль. Для Милля, как и для Бентама, консеквенциалистская нормативная установка является неизбежным выражением моральной рациональности: «Моральность действий зависит от последствий, которые они порождают – таково убеждение разумных людей, принадлежащих ко всем школам» [Mill, 1969, p. 111]. Однако то, что это убеждение находит адекватное выражение именно в утилитаризме, требует, по Миллю, специального обоснования. В этой связи в трактате «Утилитаризм» он разоблачает искаженное понимание утилитаристкой этики (прежде всего, ее отождествление с неограниченным эгоизмом и приземленным, примитивным гедонизмом) [Милль, 2013, с. 341‒108], а также выстраивает прямое доказательство правоты утилитаризма, утверждающее, что благом группы людей может быть лишь их суммированное счастье [Милль, 2013, с. 137‒158]. Теоретическая защита утилитаризма заставляет Милля уточнять и корректировать бентамовскую нормативную теорию.
Прежде всего, Милль выступил в качестве защитника универсалистской интерпретации принципа пользы. Он провозгласил, что утилитаристская моральная доктрина выдвигает в качестве цели, к которой должен стремиться нравственно совершенствующийся человек, наибольшее счастье всего человечества и даже всей совокупности чувствующих существ [Милль, 2013, c. 77; см.: Серебрянский, 2011, с. 99‒102]. Кроме того, Милль внес существенные поправки в утилитаристское понимание счастья. В противоположность Бентаму, который полагал, что удовольствие от примитивной игры в кнопки не только равно удовольствию от поэзии и музыки, но даже превосходит его в силу своей «общедоступности» и «невинности» [Bentham, 1843, vol. 2, p. 253‒254], Милль считал необходимым разграничить простое «довольство» и «счастье», невозможное без получения «более высоких» (умственных, нравственных, эстетических) удовольствий [Милль, 2013, 53‒594; см. подробнее: Гаджикурбанова, 2010, с. 125‒130; Ryberg, 2002; Riley, 2003; Saunders, 2011]. Таким образом, Милль дополнил количественные критерии оценки удовольствий качественными. Это обстоятельство позволяет считать этику Милля наследницей не только ориентированного на потребности законодательной практики прямолинейного утилитаризма Бентама, но и гораздо более нюансированной, ориентированной на потребности самоопределения индивидов эвдемонистической традиции, восходящей к представлениям о счастье и добродетели Аристотеля [Nussbaum, 2004]. В этике Милля присутствует более осторожное, чем у Бентама, отношение к расчетам суммированного счастья, но полностью сохраняется бентамовское убеждение, что в таких расчетах должен действовать принцип равенства.
Милль существенно обогатил обсуждение вопроса о том, что должно проверяться с помощью критерия наибольшего счастья. Некоторые из исследователей его творчества считают, что этика английского философа близка к утилитаризму действий [Crisp, 1997, p. 105‒125; Brink, 2013, p. 84‒85, 110‒112]. Они опираются на общее определение принципа пользы, предложенное Миллем, и на используемое им сравнение вторичных моральных правил с астрономическими таблицами. Другие исследователи обнаруживают близость некоторых рассуждений Милля к утилитаризму правил [Brandt, 1967; Fuchs, 2006; Eggleston, Miller, 2007; Martin, 2011]. Причем в текстах Милля присутствуют два разных представления о правилах, проходящих утилитаристский тест. В некоторых случаях он обсуждает те правила, которые возникают в результате теоретической конкретизации принципа пользы, не связанной с каким-то конкретным культурным контекстом, в других – правила, которые сформированы стихийным социально-историческим процессом (Милль полагает, что результаты стихийного развития культуры изначально коррелируют с принципом пользы, но нуждаются в критике и уточнении на его основе). Первое рассуждение соответствует современному утилитаризму идеальных кодексов, второе – современному утилитаризму реальных кодексов. Среди историков философии нет единства в вопросе о том, какое из них являлось у Милля доминирующим (аргументы в пользу в пользу того, что первое см.: Brandt, 1967, p. 57‒58; Fuchs, 2006, p. 144‒150; второе см.: Eggleston, Miller, 2007, p. 42; Martin, 2011, p. 31). Однако, в любом случае, в отличие от современных сторонников утилитаризма идеальных кодексов, Милль не считал вторичные моральные правила не допускающими никаких исключений [Милль, 2013, c. 238]. В трактате «Система логики» Милль дополнительно расширил число объектов утилитаристской проверки: с помощью принципа пользы в нем проверяются не только действия или правила, но и чувства (утилитарист может одобрить культивирование чувств, которые в некоторых конкретных случаях способствуют пренебрежению счастьем) [Милль, 2011, с. 704].
Наконец, в отличие от Бентама, Милль уделял гораздо большее внимание понятию «справедливость» (у Бентама эта тематика присутствовала в рудиментарном виде в его анализе конкретных целей законодательства и «мер безопасности против дурного управления»: Bentham, 1843, vol. 8, p. 555‒600). Разочаровавшись в поиске единого смысла слова «справедливость» на основе преобладающего словоупотребления, Милль отождествляет эту моральную ценность с теми нравственными обязанностями, выполнение которых является соблюдением чьих-либо прав и допускает применение принуждения. За наделением людей правами, с точки зрения Милля, стоит особый вид пользы, а именно – обеспечение безопасности. Безопасность – это единственный по-настоящему общезначимый интерес всех людей. В отличие от иных благ, она нужна каждому вне зависимости от характера индивидуальных предпочтений, удовлетворение которых формирует его счастье [Милль, 2013, с. 203‒205]. Именно на основе этого утверждения, по Миллю, должны примиряться между собой частные максимы и принципы справедливости, а также оцениваться односторонние концепции, которые неправомерно принимают такие максимы и принципы за конечные отправные посылки [см. подробнее: Donner, 1998, p. 282‒291; Brink, 2017; Прокофьев, 2008; Прокофьев, 2010].
Г. Сиджвик. Сиджвик, третий представитель классического утилитаризма, рассматривал его в качестве лишь одной из нормативных программ, отвечающих критерию рациональной самоочевидности. Согласно Сиджвику, самоочевидные нормативные принципы («положения») должны быть 1) ясными и точными; 2) проверенными в ходе тщательного размышления; 3) совместимыми с иными самоочевидными положениями; и, наконец, 4) способными порождать согласие компетентных и беспристрастных индивидов [Sidgwick, 1964, p. 338‒342]. Среди таких рациональных принципов, или аксиом, у Сиджвика присутствуют формальная беспристрастность, или справедливость, рациональное благоразумие и рациональная благожелательность [Sidgwick, 1964, p. 386‒387]. Под рациональной благожелательностью Сиджвик понимал одинаковую заботу о своем благе и благе любого другого человека. Именно ее он рассматривал в качестве основы «утилитаристской системы» [Sidgwick, 1964, p. 387]. Вместе с тем тесно связанная с принципом благоразумия позиция рационального эгоизма также отвечает критерию самоочевидности (об этом «дуализме практического разума» см.: Артемьева, 2011, с. 137‒139; Crisp, 2015, p. 227‒234).
Под утилитаризмом, или «универсалистским гедонизмом», Сиджвик понимал этическую теорию, в которой объективно правильными считаются действия, производящие наибольшее счастье наибольшего количества людей из числа тех, чьи интересы затронуты этими действиями. В уточненном описании этой программы цель правильного действия формулируется Сиджвиком как превышение счастья над несчастьем [Sidgwick, 1964, p. 413; Sidgwick, 2000, p. 255‒256]. Примечательной особенностью утилитаризма Сиджвика являлся тезис, что утилитаристский критерий правильности обосновывает некоторые нарушения общепринятых моральных требований («морали здравого смысла»). При этом убежденный утилитарист должен способствовать сохранению таких нарушений втайне от большинства людей. Скрытой от них должна быть и сама нормативная логика, обосновывающая нарушения. Сиджвик называл в этой связи утилитаризм «эзотерической моралью». Причина такой «эзотеричности» состоит в том, что большинство людей в его нынешнем состоянии не обладает достаточными интеллектуальными и психологическими способностями, чтобы следовать утилитаристскому нравственному принципу. Более того, прямое провозглашение этого принципа в обществе лишь подорвало бы моральные убеждения среднего человека, а вместе с ними – общественный порядок [Sidgwick, 1964, p. 489‒490; критику идеи «эзотеричной» морали см.: Williams, 1973, p. 138‒140]. Таким образом, подобно Миллю, Сиджвик отмечает непреходящее значение для морального сознания частных правил, но не абсолютизирует ни один из нравственных кодексов. Их моральная обоснованность определяется принципом пользы в меняющихся обстоятельствах [см.: De Lazari-Radek, Singer, 2014, p. 289‒293; Schneewind, 1977, p. 340‒349].
Сиджвику принадлежит одна из самых ранних постановок проблемы, получившей позднее название «проблема межличностных сравнений полезности». Успех утилитаристского проекта в этике он связывал с обретением беспристрастного стандарта, позволяющего сравнивать разные удовольствия разных людей [Sidgwick, 1964, p. 413, 460; Sidgwick, 2000, p. 256‒257; анализ этой проблематики в трудах Сиджвика см.: Nakano-Okuno, 2011, p. 122, 206‒222]. Другая предвосхищенная Сиджвиком проблема утилитаристской этики – проблема зависимости суммированного счастья от количества способных к получению удовольствия людей, которое законодатель или общественный администратор может изменять с помощью принятия тех или иных мер. В современной этике был выдвинут тезис, что утилитаризм ведет к одобрению такой политической стратегии, которая состоит в увеличении суммированной полезности за счет резкого увеличения численности людей при сопутствующем уменьшении их удовлетворенности жизнью. Это неприемлемое следствие утилитаристской нормативной программы получило название «отвратительный вывод». Сиджвик зафиксировал возможность такой критики принципа пользы и, полемизируя с мальтузианцами, попытался показать ее несостоятельность [Sidgwick, 1964, p. 415‒416; Sidgwick, 2000, p. 257‒258; анализ этой проблематики в трудах Сиджвика см.: Crisp, 2015, p. 203‒205].
Утилитаризм в XIX в. В первой половине XIX в. нормативная программа утилитаризма стала основой интеллектуального и политического движения британских «философских радикалов», выступавших за демократизацию английской политической системы. Кроме трех охарактеризованных выше основных фигур утилитаристской этики конца XVIII–XIX вв. к философам-утилитаристам относят Джеймса Милля [Mill, 1992; анализ воззрений в контексте утилитаристской традиции см.: Ripoli, 1998] и У. Годвина [Godwin, 1793; анализ воззрений в контексте утилитаристской традиции см.: Lamb, 2009]. Элементы нормативной логики утилитаризма содержатся в философии права раннего Дж. Остина [см.: Rumble, 1979] и экономических теориях У.-С. Джевонса, А. Маршалла и Ф.-И. Эджуорта [см.: Peart, 1990; Dardi, 2010; Baccini, 2007]. «Идеальным утилитаризмом» принято называть нормативные теории Дж.Э. Мура и Г. Рэшдолла (термин начал использовать Рэшдолл). Идеальный утилитаризм отличается от классического утилитаризма тем, что, с точки зрения его сторонников, правильным действием является то, которое увеличивает количество не только счастья или удовольствия, но и иных независимых друг от друга составляющих блага [Мур, 1999, p. 187‒188, 104‒108; Rashdall, 1907, p. 184; см. подробнее: Skelton, 2011].
Источник